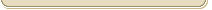Акция Архив

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2023 год стали Анатолий Ерошкин (Петрозаводск – Краснодар), Егор Перцев (г. Олонец, Республика Карелия), Николай Полотнянко (г. Ульяновск).

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 01-02, стр. 203
Моя история
Ирина ЛЬВОВА, Проза
Ирина ЛЬВОВА
г. Петрозаводск
МОЯ ИСТОРИЯ
Наконец пришло время для моей истории. Она созрела, она уже здесь, и мне ничего не остается, как ее рассказать. Не то чтобы я почувствовала, что пора писать воспоминания, – я не ловлю утраченное время. Я прочитала слишком много исповедей, историй детств и отрочеств, предсказуемых путешествий в прошлое, чтобы воспринимать воспоминания о пережитом всерьез. Невозможно не рассмеяться, когда заглядываешь в зеркало и видишь в нем себя, рассматривающую себя в зеркале. Воспоминания – множащиеся отражения – создают знакомое ощущение абсурда, которое расцвечивает мою жизнь весенними красками.
Я верю в живые истории, непредсказуемые в своей предсказуемости, те, что вырастают сами по себе. Моя история родилась в свое время, в своем месте и рассказана на том языке, который был мне дан от рождения. Я бы сравнила эту историю с деревом, потому как она тоже растет вверх, прибавляясь кольцами. Это движение по кругу и вверх – лучшая метафора для жизнеописания.
В былые времена было принято писать истории. Жизнь проживалась иногда затем лишь, чтобы о ней рассказать. Я понимаю, как нелепо выглядит сейчас эта традиция. Как неуместен лиризм, как старомодна тихая интроспекция. Потому мой голос звучит неуверенно, глухо. Но возможно ли громче крикнуть сейчас, когда человеческий мир наполнен невыносимым шумом? Шумно настолько, что трудно понять, где ты и что происходящее значит.
Поэтому так вкусна, понятна привычная картина: стол у окна, деревья за окном, царапины на столе, пыль на подоконнике, небо. Эта обыкновенная картина создает иллюзию прочности, надежности, неизменности жизни, которая всегда в настоящем.
Я люблю настоящее, в нем не остается места для рефлексии, но моя растущая история пребывает в призрачном, зыбком прошлом. Я вижу ее свежие побеги, пробивающиеся к новому дню, но весь силуэт ее скрыт, растворен в туманных отражениях, как ствол дерева, склонившегося над рекой. Я смотрю в реку, чтобы увидеть его, чтобы вспомнить.
Я пишу историю, которая всегда об отношении со словом и временем. Иногда об отношении с людьми и миром.
Начало
В начале жизни мне не приходилось долго раздумывать, как поступить, какую дорогу выбрать – в одиннадцать месяцев меня отдали в ясли, и дальше жизнь покатилась как по рельсам. Правда, сначала не слишком быстро, потому что надо было научиться множеству мелких, но полезных дел – ходить, говорить, одеваться, а это требовало времени. Моя жизнь была заполнена прогулками, едой, сном, и все шло в неизменном порядке. Вселенная выстроилась для меня единственным боком и была перегружена деталями: деревянные шкафчики у входа в детский сад, рассольник на обед, Дед Мороз зимой, музыкальные занятия после полдника. Лишь после четырех часов тиски разжимались, и меня принимали другие пространства, которые тоже имели свои размеры, запахи и ритмы: прокуренные мрачные университетские коридоры, в которых я слонялась, дожидаясь маму с работы, квартиры соседей или знакомых, приютившие меня на время.
Самое лучшее место – дом, двухкомнатная квартира в хрущевке: здесь все было понятно, привычно и чуть расслаблено. Тут жили мои страхи и фантазии: восхитительное место под круглым обеденным столом, которое могло превращаться в троллейбус, пещеру, магазин; кровать, где жили волки, а иногда поселялся выдуманный брат Сергей. Куклы, домашние вещи были заколдованы и вели двойную жизнь: обычных предметов и героев собственных историй. Они были живы, одушевлены и, оставаясь одни, вели друг с другом таинственные разговоры. Я хотела научиться их понимать, мне не терпелось им ответить. Когда взрослеешь – мир постепенно становится менее одушевленным, мебель превращается в мебель, игрушки в игрушки, фантазии в истории – все оказывается проще и безопаснее, когда долго живешь взрослым человеком.
В детстве тебе не удается ни с чем поспорить, потому что не знаешь и половины всех правил, которые приняли до тебя, с тобой не советуясь. Остается только приспособиться, получив единственную награду от взрослых – похвалу: «Какой воспитанный ребенок». Но это не обо мне.
Я не сразу стала помалкивать. Я не скрывала своего удивления. Мое первое впечатление в яслях – огромная комната со стеклянными шкафами и настигший меня вопрос: что я здесь делаю?
Я задаю его время от времени и сейчас. Но с каждым разом все тише.
Быт
Мир детства устроен так низко, что все время хочешь из него вырасти: чтобы дотянуться до стола, до верхней полки, до кнопки звонка. Все кругом сделано для рослых, взрослых, выросших. В детстве видишь то, что внизу: пыль на лестнице, выбоины на дороге, трещины, щели, ноги. Я помню огромные ноги шестилетних танцоров, пришедших к нам на праздник из старшей группы детсада: ноги великанов в белых гольфах, больших сандалиях, поразившие меня больше, чем танец. Неужели и я когда-нибудь стану такой большой?
На прогулке я заглядываю в подвальные окошки – они как раз на уровне глаз – чтобы в который раз проверить распространяемый соясельниками слух о чудовищах, живущих там. Я веду себя благоразумно и на всякий случай долго не задерживаюсь у окна. Беглый же взгляд может ухватить лишь грязные разводы на стекле, ржавчину на решетке, и мне вновь приходится набираться мужества, чтобы подойти к подвальному окну.
Другое, настоящее чудовище – машина с мусором. Она приезжает по расписанию, разрушая своей пунктуальностью мою беззаботную жизнь. Машину нельзя пропустить, и, когда она с грохотом подъедет к лестнице, жуткая, зловонная, нужно в свою очередь подняться по скользким ступенькам, дотянуться до края ящика и, не провалившись, не упав вниз, перевернуть ведро, выбросить мусор в огромное чрево, медленно спуститься, не держась за перила (перила для выросших).
Во дворе я младше всех, а значит, меньше, медленнее, неумелее. Я всегда бегу следом, вечно жду своей очереди, подчиняюсь чужим решениям. Невольно я становлюсь зрителем чужих игр, и постепенно наблюдение увлекает меня.
Я младше других, оттого, наверное, я последний свидетель жизни двора. Я помню его язык, я слышу голоса в его глубине – голоса матерей, зовущих обедать, домой, немедленно. Я знаю: каждое окно может распахнуться, за каждым жизнь, похожая на мою, все люди друг с другом связаны разговорами, привычками, общим двором. Только в твоем дворе тебя назовут по имени, здесь откроется окно, где тебя ждут. Я знаю сладость слов: «Можно пойти погулять», и радость вопроса: «Ты сегодня выйдешь?» Двор – продолжение дома, главное место, где проходит детство. Здесь известно все: кусты, клумбы, цветы на клумбах, соседские коты и собаки, младенцы, сердитые старухи. Весна приходит сначала во двор. Сходит снег, бегут ручьи с соседской горки, в стекла бьется солнце, а значит, скоро асфальт у подъезда будет расчерчен классиками, и мечта иметь биту из настоящей банки из-под гуталина вновь захватит сердце!
Медленно, медленно (так растут деревья) вырастаешь из мира, который у земли, так же медленно забывая, как пахнут травы, касаясь самого лица, как блестит зеленое стекло, аккуратно закопанное в тайном месте; и как прекрасно кольцо, сплетенное из цветной проволоки (я мечтаю о таком все детство). Медленно я отрываюсь от земли, я становлюсь большой.
Вещи
Эпоха, уплывая, как вода, оставляет после себя беспорядочный набор вещей, наполняя их своим смыслом, запахом, временем. Я ценю самые главные из моего детства: молочные бутылки и мелкие монеты. Молочные бутылки стоят на подоконнике (холодильники и телевизоры еще не загромождали квартиры, их дожидались в очередях, почти метафизических, как прихода коммунизма), закрытые крышечками из фольги. Бутылки с молоком определяли малый круг жизни (а жизнь шла малыми, средними, большими кругами): их покупали, ставили на подоконник, снимали крышечки, пили молоко, мыли, собирали в сетки, авоськи, сдавали в магазин и снова покупали, пили, мыли, складывали, ставили. Этот ритм не вполне улавливался в детстве, но был одним из тех обручей, которым удерживался быт. Молочные бутылки были просто бутылками, без этикеток, картинок, украшений, а молоко – только молоком, не ароматизированное, не отборное, ничем не улучшенное, и оно вело себя как молоко: убегало, прокисало, никогда не претендовало на особенный вкус, уникальную полезность и вечное хранение. Простота жизни, особое ее несовершенство составляли ее суть, ее прелесть. Несовершенство было незыблемым, надежным, всеми признанным, оно не мешало жить, оно было частью жизни. Благодаря ему время текло медленно и люди были неспешны.
Монеты имели важный, почти сакральный смысл. Копейка – самая маленькая, самая приветливая, ее легко найти на асфальте у магазина. Почти бесполезная, она обладала символической ценностью. На копейку можно купить коробок спичек или выпить стакан невкусной газировки без сиропа. Копейка – еще не богатство, но уже не бедность. Двушка намного лучше. Двушка незаменима, чтобы позвонить по телефону-автомату, ей можно закрутить болт в велосипеде. Без двушки невозможно обойтись. Есть еще трехкопеечная монета, большая, со злой тройкой посередине, обозначавшей неполноту жизни. За три копейки можно было проехать на трамвае, но трамваев в нашем городе не было, можно было купить сладкую газировку, но автомат у нашего дома выдавал только копеечную, несладкую. Зато пятак был веселым, умелым. Самая большая монета, которой лечились ушибы, а еще за пятак можно было ездить на маленьком пропахшем бензином автобусе и в метро.
Другие монеты – серьезные, серые, взрослые. Десять копеек – билет в кино, двадцать копеек – мороженое. А дальше – суммы невообразимые, фантастические. Дальше – богатство, деньги, без приветливой гримасы детских медяков, толпы безликих цифр, шагающих, как узники друг за другом.
География
В ожидании пробуждения моей спрятанной глубоко гениальности мама расширяла мой кругозор, надеясь, что количество впечатлений перейдет в качество и какой-то талант, не выдержав, проснется, заявит о себе. Кроме того, за отсутствием бабушек и родственников ей было некуда деваться, как возить меня с собой.
География моих путешествий была однообразна, оттого что мама тщетно пыталась примирить приятное и полезное, тем более что наши взгляды на этот счет не совпадали. Меня интересовали зоопарки и цирки, мама отдавала предпочтение театрам и музеям. Чтобы не сожалеть о потерянных возможностях, мама шла на компромисс.
Я была во всех цирках и зоопарках европейской части СССР. Зоопарки были похожи один на другой. Когда мы там появлялись, у животных непременно наступал тихий час, и мы подолгу стояли у вольеров в надежде увидеть какое-нибудь движение, небольшую темную точку, похожую на нос того зверя, чье имя было написано на табличке рядом. Посещения зоопарка будили мое воображение, о чем мама не догадывалась. На следующий день она вела меня в музей, чтобы пополнить мои знания культуры и истории. Сама дверь в музей уже навевала на меня скуку. В музеях не было никакого движения, предметы не прятались от посетителей и были только тем, о чем о них говорилось в путеводителях.
Среди путешествий самым хорошим было путешествие к морю. Само слово «море» вызывает у меня ощущение близкого счастья. Мы так долго ехали к нему, что оно успевало превратиться в сказочную невыразимо прекрасную мечту. Оно появлялось всегда неожиданно, из-за обыкновенных домиков и палаток, и это огромное, настоящее море было еще лучше фантазий о нем. Я бежала к нему со всех ног, и оно встречало меня ровным шумом прибоя, кроткой голубизной, соленой водой и ветром. Я проводила у моря целые дни, и каждую минуту оно было новым: ленивым, притихшим, подвижным, веселым; меняло краски и настроение. Вечером, после ужина, мы вновь возвращались на берег. Южное солнце сразу падало за горизонт (не так, как в наших краях, где оно полночи стоит на небе и только незадолго до наступления утра медленно скатывается к верхушкам берез), наступала прохладная ночь, и люди брели, брели долгие километры по пляжу, веселые, праздные, беспечные. Я шла за всеми следом по песку, останавливаясь у великолепных крепостей, воздвигнутых у самой воды, или у россыпей камней и ракушек. И ночь, и жизнь, и люди были хороши, счастливы, свободны, и будущая моя жизнь, если бы меня спросили об этом, представлялась мне такой же прогулкой по бесконечному песчаному пляжу под шум волн, разговоры и звуки несущейся с танцплощадки загадочной песни: «Я росла вне в час разлуки».
Поездка на море – праздник после нашей бесцветной зимы, незаметно переходящей в лето. На юге даже имена пахнут фруктами. В имени жившей по соседству с нами девочки Мананы я чувствовала вкусный аромат мандаринов и бананов.
До сих пор каждое лето, как странная птица, я слышу старый зов кочевий и рвусь на юг, к морю, то ли убегая, то ли возвращаясь к оставленным в детстве берегам.
Фотографии
Мое детство черно-белого ц
вета. И не потому, что в прошлом не было красок, а оттого что черно-белые фотографии сохраняют его в моей памяти. Серая шапка, темно-серое пальто, толстые рейтузы густого саженого оттенка – это я в детстве. Мое время снято на черно-белую пленку, как фильмы Трюффо или неореалистов. Наверное, поэтому я их люблю. Мир на фотографиях простодушен и выразителен. Его эмоциональность не нуждается в красках. Она разрушает серый фон повседневности. Я помню прозрачные капли дождя на сером дереве, блестящий круг солнца, разбивающего хмарь, густые тени; и лица идущих людей, и мое лицо, проглядывающее сквозь сероватый туман времени.
Фотография в моем детстве была редкостью, потому ценностью. И хотя фотоаппараты были у всех и все друг друга фотографировали, сами фотографии появлялись нечасто. Их изготовление требовало терпения, умения – почти магических действий с черной катушкой, химикатами, фотоувеличителем. Все происходило в темноте, и из запахов закрепителя, из красного душного света, из белой пустоты на фотобумаге каким-то колдовством и заклинаниями извлекались изображения. Любительские фотографии получались сероватые, слегка перекошенные, неправильные, приоткрывавшие безыскусность, наивность времени. Главное на них – фигуры и лица, прекрасные своей узнаваемостью. Фотографии складывали в альбомы с картонными листами, на которые клеили уголки для фотокарточек.
У меня, как у многих школьников, был фотоаппарат «Смена» за пятнадцать рублей, но не было терпения изготовить хотя бы одну фотографию. Я делала снимки впрок, надеясь позже открыть заветные катушки с пленками и распечатать все мгновения, которые мне удалось остановить. Так же я собирала впечатления для будущей истории в надежде, что когда-нибудь я научусь вскрывать темный ящик прошлого и, сохраненное в моей памяти, запечатанное в слове, оно оживет и станет понятным, наконец.
Цветные фото в моем детстве еще более редки, их делали профессиональные фотографы, обходившиеся в своем деле без колдовства и заклинаний. Мне эти снимки кажутся наполненными цветным сумраком, на них – неестественно раскрашенная жизнь, бывшая всегда черно-белой.
Мое детство прошло под тихую музык
у, которая слышна на черно-белых фотографиях: деревянные скамейки в сером снегу, наклонившиеся к земле черные ветви берез, детская беседка под темно-серой зеленью сиреневых кустов, черная собака с белым пятном на шее, и я в сером платьишке, с вытаращенными от неведенья глазами, в длинной на вырост куртке, в серой мешковатой юбке, с длинными растрепанными волосами, сидящая, стоящая, летящая над скамейкой, никому – себе! – неизвестная, восхитительно новая в новом черно-белом мире.
Советский Союз
Я нетерпеливо ждала наступления настоящей жизни, которая начинается после окончания школы. Пока же все происходило словно понарошку, поэтому я не придавала особого значения ни событиям, ни людям вокруг меня. Сейчас та жизнь кажется монотонной, почти подземной, проходившей на советском тускнеющем фоне. По усмешкам взрослых, из обрывков разговоров и анекдотов я догадывалась, что любить советское стыдно. Но все кругом было советским: песни по радио, пальто и платья, фильмы и продукты, улицы и памятники. Другого мира не существовало, а этот был вечен, как земля и солнце. Меня он мало интересовал, ведь я приготовилась разгадывать тайны жизни, а он был слишком известен, обыден, одномерен. Кроме того, он был некрасив. Но он был знаком, как сосед по парте, я понимала его с полувздоха, полуслова, разбиралась в его интонациях
Я знала, что все мы живем для высшей цели, требующей жертвенности и самоотречения, и, только служа этой цели, мы можем оправдать свое пребывание на земле. Но что это за цель – до конца было неясно. Прорыв ли к космосу, преодоление нашего вселенского одиночества, победа над смертью или растворение себя в невидимом прекрасном братстве? Хотя мне было тринадцать и я была бы всего лишь сестрой в этом великом братстве, я умела увидеть во многих незнакомых мужчинах и женщинах (даже тех, кто умерли, оставшись на фотографиях и картинках) будущее прекрасное человечество.
Но высшая цель, со всей ее неясностью, существовала в будущем, умаляя настоящее; мы жили в тени ее, поэтому сегодняшняя жизнь не имела большого значения, а мне хотелось жить сейчас. Я хотела, чтобы голос мой был услышан сквозь толщу людских голосов и жизней, я боялась потеряться в народной массе, как называли нас те, кто сумел выбраться из этой массы и теперь утверждал, что видит цель.
Я помнила, что как пылинка массы я почти ничего не стою, и грубость людей, окружавших меня, даже вполне добрых и разумных, подтверждала мою незначительность в сравнении с чем-то великим и тайным, к чему они были причастны. Кассирши, кричавшие с высоты своих кабин, продавщицы, презрительно смотревшие сверху из-за прилавка, контролеры, медсестры, вахтерши, нянечки, секретарши – все были на страже чего-то важного, неизмеримо важнее, чем обычный человек, особенно человек, не выросший во взрослого. Я привыкла к грубости как к неизбежному сору. Хуже всего были коридоры, выкрашенные масляной краской, где приходилось дожидаться своей очереди. За дверьми, выходившими в коридоры, жили люди еще более важные, чем нянечки и продавщицы, они сидели за столами с бумагами, и бумаги давали этим людям такую силу, что приближаться к ним надо было очень осторожно, чтобы их грубый окрик не задел и не ранил тебя. В Ленинграде важность людей за столами была необыкновенной, почти что царственной, потому что сидели они в больших кабинетах с высокими потолками, за дубовыми столами, словно позаимствованными из русской классической литературы, из романов Салтыкова-Щедрина.
Но самым важным местом была Москва, а самым главным здесь – Кремль и Мавзолей. Мы стояли в очереди в Мавзолей с самого утра. Я никогда не вставала так рано, в пять утра, чтобы попасть в музей. Быть в Москве – значило однажды, после цирков и зоопарка, пойти в Мавзолей, в место святое, таинственное и страшное. Там была смерть, но смерть не окончательная, и тысячи людей шли посмотреть на нее. Я боялась мертвых, мне не хотелось видеть покойного, и в Мавзолее я старалась не поднимать глаз. Я была просто частью толпы, колеблющейся в холодном полумраке. Я медленно двигалась вперед в темноту. Я совсем не была уверена, что Он там есть. В последний миг боковым зрением я увидела Его, лежащего в темном костюме. Он действительно существовал, существует.
Мавзолей был воплощением странной мистической власти Москвы над миром. Как сказочное подземелье Кощея Бессмертного, он был средоточием магической силы, удерживавшей вместе огромные пространства. И люди стояли, чтобы прикоснуться к этой силе, увидеть связь живого и мертвого, действительности и мифа. Именно эта сила управляла страной. И когда ее магия была утрачена, вся материя стала непостижимо истончаться и гибнуть.
Мистика власти и мистика цели держали страну, где я жила и которая называлась Советский Союз. Я любила ее. Но это была слишком большая страна, чтобы интересоваться таким незначительным человеком, как я. Поэтому я не ждала взаимности. Я старалась отыскать для себя что-то простое, неочевидное, но необходимое мне.
Слова
Но где же моя история? Забыла ли я о ней, озабоченная повседневностью, привыкая к ней день за днем, боясь опоздать, пропустить, сделать что-то не так? Осталась ли она в темноте детства коротким воспоминанием о блеске бутылочных осколков, предощущением судьбы?
Я жила, ожидая момента, когда мои предчувствия, тайное, не проявленное еще знание пробьются к свету с той неизбежностью, с какой распускается бутон под солнечными лучами. Пока же я пребывала в темноте незнания, не понимая, в чем суть моей истории и как ее рассказать. Я верила в совершенство слов и сознавала собственное несовершенство. Я старалась устранить пропасть между нами. Я не предполагала, что слова тоже несовершенны. И хотя наше несовершенство разное, однажды мы можем сыграть в унисон.
Я решила, что повествование лучше всего вести от первого лица, потому что из всех людей я лучше всего знала себя. Я полагала, что только субъективное может быть искренним, а значит, объективным. Я стала вести дневник, как герои многих книг, надеясь, что когда-нибудь эти фрагменты вырастут в историю.
Писать оказалось трудно. Это требовало времени и усидчивости. Кроме того, умения располагать слова и события. Я подражала Жюлю Верну, Конан Дойлю и Коллинзу. Как опытный читатель я знала, что книга должна быть интересной. Но она должна быть правдивой.
Записывать же – значит, сочинять. Несовпадения жизни углубить несовпадением отражений о ней. Я не знала, что делать с несоответствиями.
История жила во мне как музыка. Но о музыке нельзя сказать: выдумка, такого не бывает. Я избегала точности фактов, чтобы передать звучание.
Слово требует от рассказчика особой правды – умения рассказать. Так это, правда, было? – хочет узнать читатель. – Не было, но правда, – говорит рассказчик.
И все же, как я ни старалась, я не умела слышать повседневность. Мир для меня был нем. Мне хотелось от него ясных ответов, как в детстве. Я желала чудесного исполнения своих желаний. Воплощение моей истории было главным из них. Я чувствовала странность этого желания и никому не рассказывала о нем. Но в своих фантазиях я видела себя Дон Кихотом, странным, но мудрым в своих безумствах. Его правда была понятнее правды Марьи Петровны, копящей деньги на холодильник, мечтающей о даче и машине. Жизнь Марьи Петровны была предсказуема и уныла в своей предсказуемости. Книги учили меня свободе. Но мне хотелось, чтобы Марья Петровна, оторвавшись от будничных хлопот, сплетен и склок, восхищалась мной.
Но возможно ли вообще написать историю? Помочь ей родиться, войти в мир новым звучанием? Или пишущий о себе так или иначе обречен на воспоминания, игру с самим собой? Воспоминания – всего лишь рационализация прошлого, расправа сознания над непонятным, таинственным, мнимая победа над хаосом, бегство на привычные дорожки представлений о поэтическом абсурде, которым является наша жизнь в детстве.