Мы используем файлы cookie.
Во время посещения сайта журнала «Север» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Акция Архив

Объявлены лауреаты молодежного литературного конкурса «Северная Звезда» – 2025.
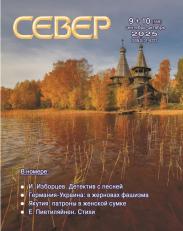
Подписку на журнал "Север" можно оформить не только в почтовых отделениях, но и через редакцию, что намного дешевле.



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
Роман на кофейной гуще", "Быль снежной зимы", "Золотая мушка
Надежда СЕРЕДИНА, ПРОЗА
Надежда СЕРЕДИНА
г. Москва
РОМАН НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
…Был красивый августовский закат. Мы шли по лугу босиком и искали, где можно перейти речку. Вот навстречу нам идут загорелые веселые девушки и парни.
– Там можно перейти? – спросила Инга, указав рукой на заросли куги.
– Можно.
– А глубоко?
– Нет. Вот, – показала девушка на колени.
Вот мы уже ступили на твердые, словно валуны, кочки ссохшейся грязи, выбитые копытами лошадей и коров. Потом комья стали мягче, и началась настоящая грязь. А вот и река-ручей. Мы подняли юбки… Но напрасно – вода по колено. Идем по скользкой жиже, переходим. И вот под ногами песок – это правый берег реки.
Речка Усманка, в одних местах сузившаяся до ручья, который можно перейти по колено, здесь, в месте Старицы, была широченная, как море.
Инга вошла в воду сразу. И поплыла на закат.
– Как хорошо! – сказала она, взмахивая руками. – И вода теплая. Как удивительно! Конечно, это не море… Но как хорошо!
***
На море Инга мечтала поехать каждое лето, но перестроечные государственные дела изменили жизнь людей, и когда-то обычная поездка к морю стала для большинства дорогим удовольствием. Инге казалось, что она не отдыхала лет сто, а у моря была когда-то давным-давно вовсе не она, а другая женщина – из какой-то другой, заоблачной, счастливой жизни.
И вот в руках билет. Дождь за окном уже не пугает. Казалось, после весны началась какая-то затяжная осень, а не лето. Лето проходило сторонкой.
Инга быстро собрала чемодан, поставила его около двери, оставалось еще время на чашечку кофе. Она любила свежемолотый кофе в зернах.
Она никого не ждала, никто не должен был ее провожать.
После смерти мужа прошло почти шесть лет, и Инга смирилась с тем, что уезжала одна. Ее лучшая подруга в самый последний момент сдала билет. … Было боязно ехать одной, и свой поступок она считала почти авантюрой. Но Инга не могла отказаться от мечты.
…Кофе она готовила в маленькой медной турке, держа ее на огне за деревянную ручку. Вот кофе помутнел, зашевелился, ожило что-то на дне старой закопченной турки. Снизу поднимались темно-шоколадные крупинки, точно черный песок с моря. И вот вода уже стала пениться, как шампанское, пузыриться.
От тепла, от красно-синего язычка пламени в турке закипела другая жизнь. Все сильнее и сильнее мутнела простая водопроводная вода. Все сильнее вырывались со дна песчинки черного кофе. И наконец пошел благоухающий аромат, запах и вкус которого придавал силы ночью, когда она писала сама или правила чужие рукописи, и утром, когда не было сил вставать и идти на работу.
Инга посмотрела на часы. Через полчаса надо выходить. Кофе пила маленькими глотками. Это была минута отдыха и наслаждения. Все! Она уезжает! Разве можно в это поверить, что завтра она будет у моря!
Чашечка опустела, и на дне ее остались лишь две-три капли и крупинки молотого кофе – кофейная гуща – без вкуса и запаха. И вдруг кто-то берет ее руку и переворачивает чашечку над блюдечком. И… Наваждение прошло. Она приходит в себя. Улыбается и идет проверить еще раз краны, перекрыты ли они достаточно плотно, отключен ли холодильник. Закрыла форточку в спальной комнате. Все! Кажется, все! Собака в деревне, у мамы. Газ, вода, свет… Все нормально. Все выключено. Билет, паспорт в сумочке. Все – можно выходить. Возвращается на кухню… Перевернутая чашечка с кофе… Поднять? И что там на кофейной гуще? Что за причуда перед дорогой? Никто не провожает, поэтому грусть сквозь радость. И причуда – это чудо, которое спасает нас от грустного одиночества. Инга медленно поднимает чашечку над кофейной гущей. И видит… На нее глядит мужчина… Что? Он еще и лысый? Перед ней миниатюрная маска. Она видит и рот «дракона», большой, широкий, и, словно на фотографии, темные большие зрачки глаз. Ей захотелось даже сфотографировать эту маску, но фотоаппарат был уже упакован в чемодан, а чемодан стоял у двери. И время… Время грозило ей опозданием на поезд. Она схватила чемодан и рванула дверь на себя! Все! Старый усталый мир позади, сейчас она его закроет на ключ и выйдет.
***
Дождь преследовал ее, и как бы поезд ни добавлял скорости, дождь не отставал, он сек по окнам железными прутьями, оставляя рубцы и струящиеся слезы.
На боковой полке плацкарты одни просили других поменяться. Кто-то соглашался, кто-то нет. Наконец поменялись. А поезд ехал к морю. Поезду было все равно, кто на какой полке спит.
– Папа, можно я буду спать на верхней полке? – спросила девочка.
Мужчина, новый хозяин двух боковых полок, помог девочке забраться.
– Галя, не упади! – сказал он ей.
Девочке было лет восемь, она счастливыми глазами смотрела, как смешно покачиваются бутылки с минеральной водой на раскладном столе, как мелькают за окном дома и деревья и как поезд стремительно догнал лошадь с телегой и оставил далеко позади и возницу, и четвероногое его средство передвижения. Велосипеды, машины и даже птиц – все обгонял поезд.
Инга наблюдала за жизнью отца и дочери, и ей казалось, что она никогда не испытывала такой заботы и любви, которую этот мужчина дарит своей дочери. Он был так внимателен и предупредителен с ребенком. «Бывают же счастливые семьи», – думала она. Он лет сорока, высокий, хорошо сложен. Видно было, что долгое время поддерживал спортивную форму. Но было что-то в мужчине очень странное, ей все казалось, что она его уже знает или, по крайней мере, где-то видела. Глаза темные, большие. Лысоват. Инга невольно рассмеялась, и, чтобы люди не заметили ее странность, покачала головой, словно смеется над девочкой. Инга узнала его. Да! Это он – человек-маска из кофейной гущи. И ей стало не по себе. Мистика... «Неужели эта встреча была предопределена судьбой? – думала Инга, отвернувшись к окну. – Я же решила – никаких романов, тем более курортных. А что это я беспокоюсь заранее – побережье большое и неизвестно куда они едут».
От этой мысли ей стало весело, и Инга улыбнулась. Мужчина с боковой полки перехватил ее взгляд, поднял голову от книги, привстал, взглянул на дочь, но, не найдя ничего смешного, опять взглянул на Ингу. Она почувствовала замешательство и отвернулась к окну, где все менялось и двигалось с быстротой летящей птицы.
– Папа, можно я буду спать на нижней полке? – спросила девочка.
Отец аккуратно снял дочку с верхней полки, постелил внизу, и девочка быстро уснула.
***
Проснулись все в плацкартном вагоне уже почти родными, смотрели сонными глазами друг на друга, шли умываться, как будто живут в одном доме под одной крышей.
– Пап, у меня коса расплелась! – капризно сказала девочка.
Он промолчал.
– Заплети! – потребовала дочь.
– Я не умею, – беспомощно сказал мужчина.
– А как же я буду?! – Девочка капризно дергала сама себя за косу.
Глаза мужчины встретились с взглядом Инги, и она вновь почувствовала, как он словно магнетизирует ее своей властностью.
– Подойди ко мне, я тебе заплету косу! – Инга нарушила безучастное наблюдение.
И девочка охотно подошла.
Инга достала свою итальянскую расч
еску из красного дерева и занялась косой девочки. Волосы были мягкие, как лепестки нарцисса, они послушно распрямлялись под гребнем и заплетались в косу.
– А вы где живете? – спросила девочка.
– В Воронеже. А ты?
– В Москве. А вы где будете жить на юге? – спросила девочка.
– В «Искре». А вы где?
Девочка отошла к отцу, но сразу вернулась:
– И мы в «Искре»! А где вы выходите?
– В Небуге.
– Ура! – воскликнула девочка и взглянула на Ингу глазами отца. – И мы в Небуге! Ура!
***
Стоянка три минуты, и поезд следует дальше, в Сочи. Сергей взял чемодан Инги в одну руку, свою спортивную сумку в другую и понес к выходу. Она успела глянуть в его глаза, глаза магнетизируют, а сам он ничего не говорит. Инга взяла за руку его дочь. Галя радостно сжала своими пальцами ее ладонь. Галя редко виделась со своим отцом, и тетя Инга была ей просто необходима для жизни без мамы.
Юг встретил их мелким дождиком. Но это был уже другой дождь – теплый, ласковый, с проблесками солнца и полноцветной радугой. Галя визжала от радости и висла на руке доброй тети.
Вот и частный пансионат. Люди, приехавшие к морю с детьми, спешили занять комнаты получше. Ингу должны были поселить одну в комнату, но кто-то ее опередил. Хозяин пансионата извинился и провел ее в двушку. Но опять возник плач детей и суета, и опять хозяин пансионата извинился, и Инга оказалась в трешке. В трешке, разделенные тумбочками, стояли три кровати. Ее соседями по кроватям были женщина с девочкой лет шестнадцати. Этого ребенка едва ли можно назвать девушкой: она медленно, невнятно говорила, без матери никуда не выходила, а с лица ее не сходила улыбка дауна.
– Ин-га? – добродушно-глуповатая улыбка сияла на лице больной девочки. – Ты куда идешь?
– Гулять…
– Не ходи одна, там серые волки под горой, зубы точат, нас съесть хочат… Не ходи туда одна.
Окно выходит на горы. Она будет жить две недели у подножия горы. Инга открыла створки и почувствовала необыкновенную горную свежесть, которая придала ей силы, терпения и радости. Она быстро переоделась в купальник и топик. Взглянула на себя в зеркало, подкрасила губы и, поправив рыжую прядь волос, водрузила на голову шляпку из соломки. В сумочку из такой же соломки положила новое махровое оранжевое полотенце и пошла к морю.
«Благодарю тебя, море, что я здесь, – шептали соленые от воды губы. – Благодарю тебя, волна!»
Потом был обед. Галя подбежала к Инге, взяла ее за руку и потянула за собой:
– А мы на вас уже заняли столик. Вот ваше место, тетя Инга.
Инга не возражала.
А вечером, после ужина, когда Галя играла с детьми во дворе пансионата, Инга и Сергей пошли прогуляться по набережной. У пирса стояли корабли, прибывшие из дальних странствий, дул свежий ветер с моря, в небе сияла луна в окружении блистающих звезд.
Зашли в таверну. Загадочный свет. Музыка. Лучшие вина Кавказа. Инге нравились в нем манера говорить, танцевать, ухаживать за столиком, смеяться – все было приятным. Его пронизывающий взгляд, казалось, рождал тайный, непостижимый, мистический страх, как гадание на кофейной гуще. Какой-то странный страх заставлял ее быть сдержаннее. Он о себе говорил коротко: служу Отечеству... Официантка принесла и поставила на стол толстую свечу в стеклянном подсвечнике и еще по бокалу красного вина.
У Инги кружилась голова. Все происходящее ей казалось фантастически неправдоподобным, загадочным, словно в сказке.
Вернулись – дочка, заплаканная, растрепанная, испуганная. Не спит, а сжимает подушку… Он блеснул серебристыми белками глаз, но промолчал.
***
С одной стороны от частного пансионата, метрах в трехстах – море, с другой – речка горная. Она любила медленно идти вдоль реки и наблюдать ее стремительное течение.
– Сколько здесь мальков! – сказала Инга. Поток захватывал ее.
– Это форель. Королевская рыба, – сказал Сергей.
А кругом розы, лавры, кипарисы, как в раю. Но девочке Гале хотелось в аквапарк. Галя визжала от восторга, когда ехала по горке, закрученной в спираль, и, выскакивая из этой вертушки в воду, громко кричала:
– Мама! Мамочка! Мамуля!!!
На них смотрели как на семью. Они везде ходили втроем: он, она и между ними Галя. На пляже они были вместе, катались на катамаране и на прогулочном катере, фотографировались. Сидели за одним столиком за обедом.
После обеда они отдыхали. У него жилье отдельное, веранда выходит в сад.
– Тетя Инга! – вбежала Галя в комнату-трешку. – Идите к папе, ему там скучно. Он, как и вы, тоже книжку читает.
А сама подсела к столу и стала рисовать вместе с больной большой девочкой цветными карандашами море, горы и цветы.
Мама девочки с таким осуждением взглянула на Ингу, что той стало стыдно и больно, словно она воровала со стола чужой виноград. Но она встала и пошла – под взглядом, как под прицелом.
А вечером над горами сгустились тучи, полил ливень, разразилась гроза. Инга стояла на ступеньках веранды и со страхом и наслаждением впервые наблюдала грозу над горами. И вдруг почувствовала, как Сергей подошел сзади, прижал ее, словно маленькую девочку, и погасил в ней страх перед этой горной грозой. В комнате Сергея было тепло и уютно. Дочка уснула, отвернувшись к стене. Он, наливая каберне в пластиковые стаканчики, прошептал: «За тебя!»– «За нас?» – вопросительно добавила Инга.
Сергей взглянул ей в глаза и – промолчал.
По крыше стучит дождь. Молния бьет по горам, разрезая их огненной линией, а она не видит...
***
Ночью вставала между ними темная виноградная терраса, словно ущелье в горах. Утром Инга проснулась в пять часов, встала, не включая света, тихонько накинула халат. Легкий утренний свет уже лежал розоватой полоской на горах.
– Ин-га? – проснулась девочка. – Ты куда идешь?
– Спи, еще ночь.
– Не ходи, там серый волк.
Инга шла к нему по влажному виноградному туннелю, промытому ливневым дождем. Виноградная лоза зацепилась за волосы, щекоча молодыми побегами усов. Дорожка предательски шуршала, и она шла-шла, ступая сначала на носок, а потом на пятку, чтобы меньше было шума, чтобы никто не увидел и не услышал, как она крадется, словно мышь. И в благодарность за эти страхи – поцелуи, поцелуи…
***
Инга не могла не замечать взгляды окружающих. Русские даже на отдыхе быстро узнают друг о друге все и, не стесняясь, вмешиваются в личную жизнь. Какая-то особая благодатная, связующая родственность заставляет их интересоваться и переживать за поступки людей, с которыми они знакомы порой всего неделю. Следующим вечером Инга сказала женщине по комнате, что он одинок, разведен с женой. Косой взгляд соседки перестал осуждающе следить за ней.
***
Сергей с дочкой уезжал раньше. На вокзале не было провожающих. Отдыхающие приезжали и уезжали сами. Объявили отправление. Он слегка губами коснулся ее губ. В эту последнюю минуту она ждала от него одного-единственного слова – «увидимся». Но он промолчал. И тут неожиданно Галя капризно сказала: «Папа, спроси у тети Инги телефон, я хочу ей позвонить». Инга продиктовала, он внес в записную книжку в мобильнике. Протянул ей визитку, ничего не обещая.
Она вернулась в пансионат одна. Одна сидела за столиком за обедом. Хозяин гостиницы любезно предложил ей перейти в двушку, которая теперь, после отъезда Сергея, освободилась. Инга покачала головой и чуть не расплакалась на глазах у всех. Она шла через дворик, никого не видя, слезы, словно волна, накрывали ее.
– Ин-га? – встала перед ней девочка с добродушно-глуповатой улыбкой. – Ты куда идешь?
– На море.
– Возьми меня.
– Тебе одной нельзя. Ты с мамой пойдешь.
– С моей?
– Да. Я ведь не твоя мама!
– Не ходи одна на море, там серый волк под горой, зубы точит, нас съесть хочет.
…Инга шла к морю шесть минут прогулочным шагом по дорожке вдоль реки. Река эта имела странное название – Скорпион. У этой горной реки было особое течение. Река Скорпион была совсем не похожа на ту реку, где Инга выросла и где почти нет никакого течения. Она, глядя, как мальки форели смешиваются с серебристыми острыми камешками в бурном потоке, вдруг вспомнила его взгляд, такой же стремительный, пронзительный и острый. Вспоминать было и приятно, и больно. Она, как королевский малек, тоже не смогла удержаться на мелководье своей жизни.
И вот река незаметно вновь вывела ее к морю. Инга бросилась в волны. «Море! Я люблю тебя! Благодарю тебя, море, что я здесь, – поднималась она на волну. – Благодарю тебя, волна! Я счастлива! Волна ласкает меня! Любит меня! Море, как я долго ждала тебя».
…А вечером в виноградном туннеле Ингу встретил хозяин гостиницы и опять предложил перейти в двушку, чтобы больная девочка ей не мешала. Он сказал, что подселять к ней никого не будет. Хозяин был гостеприимный армянин.
– Я люблю детей. Спасибо, – вежливо отказалась Инга.
Своих детей Инга не успела завести, ее муж погиб, как это теперь называют, в одной из «горячих точек» страны.
***
…Инга приехала домой. Кофейная гуща в чашке засохла, сжалась, как шагреневая кожа. Но, когда она привезла из деревни свою маленькую собачку, которая искренне радовалась ее приезду, жизнь вернулась в прежнее русло.
Сергей позвонил через три дня, поздравил ее с днем рождения. Она пригласила его на вечер – девичник. Он вежливо отказался, сославшись на командировку. Но когда гости перешли к десерту, неожиданно раздался звонок в передней. «Даже без цветов», – с горечью отметила Инга.
Как-то быстро ушли подружки, они остались одни.
– Я не понравился твоим подружкам, – заметил он, звякнув ложечкой в кофейной чашке. В той самой чашке, где она увидела его, нагадала роман на кофейной гуще.
– С чего ты взял... В конце концов, ты мой друг, и я вправе сама сделать выбор.
Инге казалось, что и он сделал выбор, их курортный роман будет продолжен. Ведь она так рада его видеть. Но почему же он молчит?
И тут она поняла: он любит власть, деньги, женщин. Там, у моря, она почувствовала какую-то заботу о себе, связанную, может быть, не с деньгами, а с чем-то большим, важным, необходимым. Казалось, он умеет разумно пользоваться той властью, которую чувствует над ней. Он был всегда такой любезный, целовал руки, ухаживал. С ним все было хорошо.
И вот они встретились. Его глаза изменились, властные глаза стали жестче, и они словно говорили: курортный роман – это просто курортный роман. Он сказал, что уезжает в Москву зарабатывать деньги, что жить здесь на такую зарплату ему стыдно. Он пришел попрощаться и честно сказал, что эта встреча последняя.
***
На выходные Инга поехала к маме в село, где она выросла. Рядом с их домом, где жили отец, прадед, дед, был храм. В храме молились о благополучии жизни и благодарили Бога за каждую земную радость. А потом в храме иконы сняли и там хранили обычное зерно, очищенное от плевел тяжелым крестьянским трудом. И она, когда была такой, как Галя, прыгала с ребятишками сверху в зерно и хохотала.
Теперь самое приятное впечатление давала река. Несколько лет назад рядом строили дорогу, и песок для работ брали из старого русла реки, так Старица помолодела, очистилась, расширила свои берега. Но нет течения в Старице, она скорее не река, а пруд, которых много высохло в степных донских полях.
Тогда же построили и новое настоящее зернохранилище, а в храм вновь вернули иконы.
Августовское солнце заходило медленно, облака розовели, словно рябиновые грозди, горела полоска леса от погружения пламенного солнца, в багрянце была и Старица, удивительно отражая игру предосеннего неба.
– Не знаю, есть ли благодатная любовь в курортном романе, но мираж точно есть, – сказала писательница романов, которые правила Инга. – Расскажи все.
Инга начала рассказывать, и в ее памяти вновь стала оживать река Скорпион с серебристыми мальками королевской рыбы, которые, резвясь среди сверкающих камешков, не замечают, как сильное течение неотвратимо уносит их в море.
БЫЛЬ СНЕЖНОЙ ЗИМЫ
Посвящаю дочери Лене
Было очень морозно в ярко освещенном городе. Вечерние улицы светились праздничными огнями, машины перегоняли друг друга. В эту ночь наступит Рождество.
За углом, где открывался переулок, шумела и толкалась кучка взъерошенных парней. Наташа торопливо прошла мимо шумной ватаги. Смех и крики отдалялись. Но кто-то шел следом: становился отчетливым скрип снега. Молодая женщина насторожилась от этого догоняющего ее морозного хруста, поправила лисью рыжую шапку и пошла быстрее.
Электрический фонарь. Холодный свет на снегу. Тень ее фигурки вздрогнула и застыла. Резко остановилась и быстро оглянулась. Мальчишка неуклюже ткнулся ей в плечо. От неожиданности отскочил.
– Тетенька, а вы далеко живете? – Мальчишка с нее ростом, лет одиннадцати, голос простуженный.
– А что? – удивилась она, разглядывая преследователя: худое узкое лицо, ершистый, легкая болоньевая куртка застегнута на две нижние пуговицы.
– Пустите переночевать, – шмыгнул носом, потер его голой, без варежки, рукой.
– Извини, мне ехать далеко, – жалость и настороженность боролись в ней.
Оглядываясь и нелепо подпрыгивая, мальчишка шел сбоку, засунув руки в накаленные морозом карманы.
– Застегни пуговицы! – Она приглядывалась к нему.
Окоченелые согнутые пальцы забегали по льдинке пуговицы, но она, скользнув, опять вынырнула из разорванной петли, впуская стужу к детскому продрогшему телу.
Подошел автобус.
– Тетенька, к вам можно? – не отставал мальчишка.
Клубы едкого газа, словно мыльные пузыри, вылетали, обдавая угарным теплом.
– Садись, – бросила она через плечо, кивнув лисьей шапкой, и быстро зашла в автобус. Она заплатила за двоих.
Мальчишка легко вскочил следом, не вынимая рук из карманов. Неловко, боком сел на свободное место, постукивал ботинками, согревая ноги.
В морозном блеске мелькали огни рекламы. Город сверкал в ожидании чуда, праздника, счастья.
– А до вашего дома далеко ехать? – Подышал на красные пальцы, зажал их между колен, стараясь заглушить морозную ломоту.
– На следующей выходим. – Она прошла к выходу.
На освещенной красными гирляндами остановке Наташу ждал муж, невысокий, плотный, в кожаной длинной дублёнке. Взял из рук жены сумочку, притянул за плечи, согревая. Она торопливо объясняла ему ситуацию. «...Что-то случилось, – долетали до мальчишки слова. – Я еще не поняла. Ему некуда идти, я пригласила его к нам».
Мальчик видел, как она изменилась в лице, разволновалась, словно не была хозяйкой.
– Мы решили. Ты пойдешь к нам. – Подошла к своему преследователю, трогая его за плечо, ощутила морозную ломкость шуршащей куртки. – У нас праздничный рождественский ужин. Согреешься. У нас тепло.
– Не надо! – Мальчишка отдернул плечо. – Я сам как-нибудь. Мне есть куда пойти. Куда-нибудь пойду...
– Иди туда, не зная куда? – рассмеялся муж, подходя ближе.
– Не надо, – повторил мальчишка, упрямо борясь с дрожью от холода. – Зачем вам ругаться потом? – И с дерзким вызовом бросил: – Я не замерз! – взглянув исподлобья, опять насупился.
– Так как же тебя зовут? – Мужчина снял со своей руки кожаную перчатку на натуральном меху и протянул теплую ладонь.
– Али, – сказал черноглазый мальчишка и разжал в кулаке пальцы.
– Али. А по-нашему Алик, значит, как моего друга. А меня Сергей. – И, придумывая условия игры для этой ситуации, Сергей добавил: – А теперь пойдем в наш терем-теремок. Он не низок, не высок. В тесноте, да не в обиде, как деды говаривали, да? А ты серьезен, да легко одет, брат. А тут русские рождественские морозы наступили! Мороз-то, он, видишь, не тетка, шутить не любит.
– Мне не холодно! – не принимал Али наигранного тона. – Правда. Я привык. Правда. Сергей, а вы далеко живёте?
...В квартире тепло и уютно. Комната тесно заставлена: шкаф, два кресла, телевизор, письменный стол, стеллаж для книг, как перегородка.
Али казалось, что он дома, в Таджикистане, и было ему так тепло и хорошо на душе, что возник какой-то покой. Мальчик не чувствовал ни натянутости, ни стеснительности ни за столом на кухне, ни в кресле перед телевизором: чувство было такое, как будто Наташа его старшая сестра. На столе были фрукты. И Али ел мандарины и виноград, торопясь и смешно всхлипывая от насморка.
– С Рождеством, Наташа! Будь счастлива! – поздравлял Сергей, улыбаясь. – С Рождеством, Али! Пусть будет всё хорошо!
Наташа постелила мальчику на раскладушке, слышала, как он скрипел натянутыми пружинами и вдруг затих во сне. Где-то в других квартирах, из другого мира доносились приглушенные звуки. Полночь: у кого-то просигналило радио и смолкло. Она заставляла себя уснуть, не думать, не вспоминать. Но память сама перелистывала страницы прошлого. Воспоминания из детства приходили, словно сон: превращались в мысли о жизни, ей было приятно, что мальчик спит за перегородкой в тепле ее квартиры.
…Утром Наташа решила проведать свою одинокую тётю Эллу, отнести ей рождественский подарок.
У тёти Эллы была в гостях соседка Зоя – тоже одинокая пенсионерка, страдающая множеством болезней.
Наташа рассказала о мальчике, который вчера её напугал в тёмном переулке:
– ...А сейчас вот посадила его на автобус до автовокзала, дала на дорогу денег. У мальчишки, кажется, ни копейки не осталось, говорит, все фильмы пересмотрел.
– Ты уверена, Наташа, что он поедет на автовокзал? – недоверчиво улыбнулась тётя Элла, она уже давно относилась ко всему с предосторожностью.
– Как ты решилась пустить с улицы в свою квартиру мальчишку? Да ещё в такой праздник! – недоумевала Зоя, очень активная и уверенная женщина. – В жизни ведь всякое бывает. Вот в одном доме соседка сжалилась, тоже пригрела девчонку с улицы. Так в благодарность знаешь что получила? – Зоя возмущенно повернулась, проскрипев стулом. – Обворовали ее. Оставила она девчонку в квартире, вышла в магазин. И все! И вся вам благодарность!
– Как это случилось? – насторожилась Наташа, поддаваясь общему настроению.
– Как? – передразнила, удачно копируя интонацию, Зоя. – Жизни ты не знаешь! Случилось то, что и должно было случиться. Воровкой оказалась девчонка. Какая разница как?! Вернулась, значит, соседка из магазина, – увлечённо, словно на сцене, рассказывала Зоя. – Входит и видит: девчонка сжимает что-то в кулаке. Тут приятельница моя подходит к ней и говорит: «Разожми пальцы!» И как вы думаете, что в руке оказалось? – Выдержала паузу, как опытный актёр, и с казнящим осуждением сказала: – Девчонка-то вороватая! – И усмехнулась: – А десять тысяч соседка-то нарочно положила на пианино, не сверху, а прямо на черную крышку.
– Сколько этой девочке лет? – задумалась Наташа.
– В школу пошла, в первый класс, а воровать уже научилась. А еще случай был... – Зоя раскраснелась от воспоминаний. – Тоже вот так... Переночевал один мальчик с улицы, а через неделю эту квартиру и обчистили! – Она поднялась со стула, подошла к Наташе, положила ей руки на плечи, посоветовала: – Позвони в милицию. Береженого бог бережет. А что-нибудь такое, необычное, заметили за ним?
– Не знаю, – пожала плечами Наташа. – Все было странно с самого начала... Я даже испугалась: снег, как разбитое стекло, хрустел, и шаги все ближе, ближе... Ах, думаю, все отдам, лишь бы не били... И когда он мужа увидел на остановке, вдруг идти не захотел... Крутил, рассматривая, замок, когда утром выходили из квартиры.
– Нет, я бы так глупо не поступила! Зачем все усложнять? Надо принимать все как есть. Мир не переделаешь, – убеждала тётя Элла, энергично крутя диск телефонного аппарата. – Есть специальные люди в милиции, которые занимаются такими детьми. Вот пусть каждый и делает свое дело.
– А как он вел себя ночью? – не унималась соседка.
– Не знаю, – устало ответила Наташа. – Мне снился сон... Как будто я сына родила.
– Сон-то сном, а что теперь в твоей квартире делается? Вспомни всё! – приказывала тётя Элла, волнуясь всё больше и больше за любимую племянницу. – Что он говорил?
– Он говорил, что не видел еще квартиры без телевизора. – Наташа продолжала вспоминать вслух.
– Вот-вот! – недоверчиво усмехнулась Зоя. – Что за такой страховой агент, что квартиры обходит? Испортит вам все новогодние каникулы.
– Да, Наташа, и я тебе как дочери советую: вспомни все, подумай и позвони в милицию, – настаивала тётя Элла. – В молодости я тоже была доверчивой.
– А муж где?
– В лесу.
– В лесу?! Где? – удивленно вскрикнула Зоя. – Это ещё что?!
– Он же у меня спортсмен. Летом – плавание, зимой – лыжи. У нас-то и воровать нечего, только книги...
– У меня все вынесли! Белым днем! А Сергей в лесу! На лыжах! И будет дома, как в лесу! Голо всё! Алло! Милиция? – Тётя Элла властно протянула телефон Наташе: – Говори!
Наташа не узнавала своего голоса. Ей что-то отвечали, что-то спрашивали. Но ей вдруг стало грустно.
...Возвращаясь домой, Наташа прошла пешком несколько остановок. Зима отступила, обмякла, снег стал грязен. Еле дошла до дома.
– Наташа, а тут милиция приходила, интересовалась! – Сосед Иван – ветеран войны – курил на лестничной клетке. – Что случилось?
– Так. Ничего, дядя Ваня.
Хотела Наташа пройти мимо пожилого человека, но вдруг остановилась и сказала доверительно:
– Мальчик у нас ночевал.
– Что за мальчик? – заинтересовался Иван. – Кто? Откуда?
– Али. Переселенцы, наверное, из Таджикистана.
И Наташа рассказала ему все:
– Я не понимаю, почему я стала бояться воров. Зачем позвонила в милицию, не знаю.
– Может быть, не в ворах дело? – с доброй улыбкой спросил Иван. – Люди стали какие-то другие. Дикий, изнуряющий страх. Страх веру убивает. Почему разучились доверять? Мы во время войны и то больше доверяли друг другу.
– Мне кажется, что звонком в милицию я себя предала, а не мальчика. Когда стала бояться? Почему я не доверяю себе?
– Не волнуйся, Наташа. Твой Али будет помнить тебя. Доброе век не забудется. С Рождеством!
Наташа открыла дверь своей квартиры и вошла. Вспомнилось, как ее пригласила незнакомая женщина. В Москве. Это было так давно. Она сдавала экзамены в Литературный институт. Проснулась… Ключ на белой бумаге. И тишина. И записка: «Завтрак на столе. Подогрей чай. Ключ положи под коврик у двери. Ни пуха ни пера!»
В тот счастливый день Наташа сдала на отлично свой вступительный экзамен. И была такой счастливой!
18 марта 2009
ЗОЛОТАЯ МУШКА
Памяти Митрофана Федоровича Подовинникова
Пчела села на изрезанную морщинами руку, но баба Дуся даже не пошевелила мизинцем, чтобы прогнать золотую мушку.
– Пчелка золотая. – Баба Дуся ближе поднесла руку к глазам и стала любовно разглядывать, как та что-то выискивала среди морщинок и жил. – Что же ты жужжишь?
– Укусит, – забеспокоились женщины на скамейке. – Ужалит!
А пчела, как трель в дрожащем воздухе.
– Нет, пчела зря не кусает. Она мушка умная. Мой дед с этой пчелой всю жизнь. Да вот в больнице... Не хотел дед в больницу ложиться, да, спасибо, я уговорила. А как обвыкся там, так и про меня, старуху свою, забыл. – Маленькая баба Дуся покачивала детскую коляску и вела разговор с народом на скамеечке. – Ну, по второй недельке домой все же запросился, – улыбнулась, морщинками играя.
К ней испытывали невольное уважение, будто ее муж или брат были героями этого небольшого города.
Пчела вернулась, опять исследуя, кто сегодня из бабушек-старушек варил варенье.
– Пчелочка златая, что же ты жужжишь?.. – пропела баба Дуся и вдруг дерзко, по-женски хитровато, взглянула на всех выцветшими голубоватыми глазами и доверительным шепотом поделилась:
– Видать, заскучал.
Пчела полетала над скамеечкой, но ни на кого не села и никого не напугала, и ее уже не боялись и не пугали, махая руками. Исполнила золотая пчелка свой небесный отрешенный ноктюрн и улетела.
– Вот и сейчас вторую неделю живу у дочери, а мой Михаил уже зовет меня. А ведь уговорились: буду месяц гостить... Молчал, молчал, потом отпустил меня все ж. «Съезди, – говорит, – тебе все одно ночью не спится. Понянчишь». А сам телеграмму вчера прислал: приезжай, а то помру. Нет бы в письме что да как написать, а то телеграммой, страсть как напугал. Ну, вправду заболел, а может, дурит? Надо ехать! – Затянула потуже синий шерстяной платок, морщинка между бровями пересекла лоб до самой линии волос.
Налетал ветер. Но пенсионерам со скамейки уходить по изолированным квартирам не хотелось. Одевались потеплее, собирались к подъезду бабы Дуси. Интересно иногда посидеть среди них, да времени не хватает.
– По весне-то он у меня в больнице лежал: кашлял. – Баба Дуся говорить умела, вроде ни на кого не глядит, ни с кем спор не ведет, а все слушают. – Легкие лечили. Страсть сколько уколов принял. Ну, больница у нас хоть и небольшая, в два этажа, а хорошая, теплая, чистая, и все врачи есть. А кто совсем тяжелый, того в город везут. Таких-то, как мой дед, сами лечат. Не нравится деду моему, что больницу вместо церкви построили, за парком. Из окна и лес, и речку, и наш поселок далеко видать. Прямо тебе дом отдыха, ну нет, заскучал дед мой, домой запросился. А врачи ему: «Отдыхай, дедуля. Недельку еще полежите, курс надо закончить». Ну и ждет курсов утром и вечером мой дед. Подойдет медсестра. Она такая, как лисичка. А сама шприц так легко держит, словно играет, и улыбается. Лицо узенькое. И говорит быстро-быстро, будто стреляет буквами: «Укольчики. Укольчики». Молоденькая, тоненькая, страсть какая, прямо балерина. Практику после учебы проходит. И так утро, вечер, утро, вечер – практика. Крякнет дед, да молчит. Такие-то наши курсы стариковские...
Подняла руку перекреститься, вздохнула, посмотрела в окно, опять вздохнула и продолжала:
– А я хожу к своему деду, гостинцы ношу: то яблочка, то огурчика соленого, картошечки домашней отварной, медку стаканчик принесу. А что еще надо больному да старому человеку? Ну, а когда у самой в голове гудит, точно самовар, ну, думаю, дед, сегодня не приду, а назавтра получше вроде, опять иду. Скучно одной страсть как.
Она сжалась, ссутулилась, лицо, как пожухлый лист дуба, зябнет, высыхает, горюет по теплому солнышку.
– Ему-то веселей. В палате их двое.
К скамейке еще подошли две старушки и молча, уважительно остановились, может, опять что про политику расскажут, кого куда выбирать, кто за кого теперь будет голосовать. Пойди разберись, каждый день ветер с другой стороны дует. А в их дворе и вообще сквозняк и солнца нет. Дома-то по двенадцать этажей, это не свой домик в деревне. А на даче на зиму не останешься.
– Вроде как с почетом положили моего деда... Ветеран! – Баба Дуся помолчала ровно столько, чтобы вызвать уважение к «ветерану».
Закивали, слушая, старушки на осенней скамеечке, мол, знаем, знаем – добродетель вознаграждается долгой жизнью.
– Мой-то Михаил долго покашливал, а тот, второй, с чем-то другим лежал – не кашлял. Молодой еще мужчина, не на пенсии. Он-то курсы свои быстро прошел – выписался. – Лицо ее от прожитой жизни сильно изменилось, лоб открытый и высокий, но кажется, что все кости обтянуты какой-то складчатой кожей: все сплошь морщины, морщины, сквозь которые видна врожденная проницательность. – Ну, привели другого. Этого-то мы с дедом знали, как не знать. Петровича привели, вот ведь бог свел двух друзей-товарищей. Петрович этот на один вопрос десять ответов даст. Ох, и любил говорить! Не то что первый-то, молодой, все молчал и молчал... А этот специалист в словах-то. А потом, уже под пенсию, работал мой дед с ним недолгое время, да ушел от него скоро. Мой дед хитрить не любит, воровать не умеет – нутро не так устроено. Не крал, не врал. А Петровича поставили начальником над дедом. Он вначале-то, как мой Михаил, сам работал: на заводе слесарил. Потом по здоровью на хоздвор перешел. Вот с хоздвора все и началось. Тогда они вместе с дедом мало поработали. Да вдруг Петровича поставили завхозом. Ну, тут человека как подменили, прямо страсть, чисто ходить стал по хоздвору, при галстуке. И когда ж это ему Нюрка выглаживала все, сроду утюга в руки не брала. С «ты» на «вы» стал звать, ну смех, да и только. Я своему деду говорю: «Смотри, как человек переменился, гладкий стал, культурно оделся, вот бы и ты так, и тебе бы нашлось место, где хребет не ломать». А дед только смотрит на меня: шучу я или всерьез? Молчит. Ну а я вижу: места себе не находит. Петрович-то вроде дружком его был. Давно знал его дед, воевали на одном фронте. Кое-кто уж над моим-то и посмеиваться стал: позавидовал ты, дед, дружку-то своему, не стерпел его власти над собой. А мой возьми да и скажи: «Ну ладно, те жуликами и родились, а этот ведь человеком был...»
И заявление подал.
Петрович два раза домой к нам приходил, уговаривал остаться. Заявление порвал. А мой: «Нет!» И все. «Не могу, – говорит, – теперь тебя видеть». А тот все одно твердит: «Я тоже как человек пожить хочу. Все так живут. Я как все...»
Ну, мой после этих разговоров совсем сбесился: «Все... Научились. Взяли моду. Все! Чуть что – все... Единогласно, значит? А вот я – против! Меня кто спросил?! Все...»
Я осерчала да ему в ответ:
– А кто ж тебя будет спрашивать, если ты все молчишь... Не крал, не врал, а молчал!
Так обиделся на мои слова, страсть как: молчит день, молчит два. Пока от Петровича не уволился, так и молчал. А Петрович-то на пенсию ушел с замдиректоров, с почетом, хорошую пенсию ему дали.
...Ну, как зашел Петрович в палату к моему – увидал его дед, опять замолчал. Приду, а он выйдет и молчит. Я ему: «Что ты на меня злишься?.. Я тебе, что ли, твово Александра Петровича подсунула?» Ну, потом вижу: вроде повеселел, видно, поговорили, простил, пожалел, Петрович-то тяжел уж был.
Зашла я как-то в палату, поглядела на дедова начальника, лежит полный, не худел, лицом круглый, а бледный как мел, ну я и спрашиваю:
– Что у вас болит-то, Александр Петрович?
Это я его как начальника, с Петровичем-то, чтоб ему приятно было, больной человек-то.
– Все болит.
– А лицом-то вы гладкий...
А он мне:
– Да что лицо, я вот дышать не могу, все будто воздуха не хватает...
Гляжу я, впрямь, мается: в руке пальцы жмет, жмет, потом рот откроет, воздуху глотнет, вроде как зевок такой, и будто ему легче. А руками вверх-вниз, вверх-вниз, зарядку делает. А сам лежит высоко на двух домашних подушках, лежит, ну барин тебе. Нюрка-то ему всего и несет, и везет, чего у других нет: то лимон облизывает, то виноград сосет, и балыки, и шашлыки, и черную икру, и красную... И деду моему предлагает, а дед мой гордый, не берет... Так Петрович-то размажет на хлебе и мусолит, мусолит. Каждую икринку языком-то слизывает, раскусит, пососет, страсть смотреть-то. Да еще рассуждает, что черная-то икра не то что эта... Во всей банке-то, небось, икринки пересчитал. Ох, батюшки, грех какой. А колют ему все лекарства хорошие. Нюрка где-то доставала, видно, не зря в люди-то спешил выбиться, чувствовал... А наших-то все нашими лекарствами лечили.
Вдруг мой дед тоже запросил икры и лимону. А где ж я ему?.. Я страсть как осерчала, два дня к нему не ходила. Медок у него есть, варенья всякие, а он вишь чего захотел. Ну, в городе бы жили, купила бы штучку пососать, а тут где ж я ему возьму. Совсем спятил мой дед, забарствовал. Да хорошо, выписали скоро. Хоть не поправился телом, такой же худой пришел из больницы, а кашлять почти перестал. Полегчало. Дед-то мой сухонький, как на войне-то подсох, так и не поправлялся больше. От истощения в войну-то в Москве лечили. Когда из плена бежал, месяц лесами шел, корнями, грибами да травой питался... И, правда, пил после войны, страсть сколько пил, словно пожар внутри заливал. А как занялся пчелами, пить бросил. Сам. Еще до больницы, без всяких уколов и гипнозов ихних. Сам бросил. И курить перестал. Сам! Без таблеток. А как усох тогда, так и не поправляется.
А пчелу-то мы в прошлом лете ликвидировали: выезжать сил нет, а возле дома стоять будет – пропадет, все химия везде, все травят, а пчелке чистый цветочек нужен, нектар берет, медок. А дед мой ой как любит пчелу! «Золотая мушка, – говорит, – природу понимает». Как пчелу-то решил продать, так мой дед аж заболел. А красиво утром на заре: пчелки зажужжали, полетели...
Вдруг люлька зашевелилась, раздалось детское сопение, и, казалось, вот-вот вырвется крик. Баба Дуся встала и несильно потрясла ручку коляски, приговаривая:
– Спи, спи, ишь, зачебуршился. Рано еще кормиться, пусть мать от тебя отдохнет. Спи. Ну вот... Спи, спи...
– Ой! Пчела! – Женщины замахали руками.
Пчела исполняла незаконченную мысль из одного мотива...
Баба Дуся, постояв, заглянула в коляску и не спеша села:
– Вот иду я как-то: на крыльце стоит Нюрка, ну жена-то Петровича, что икру лизал.
– Что это ты стоишь? – спрашиваю.
– Заходи, – говорит она.
Ну, я поднимаюсь на крыльцо. А сама на нее смотрю и опять:
– Какие дела?
А она мне:
– Проходи, увидишь, какие мои дела...
И дверь открывает в дом, а меня вперед пропускает. Вхожу, а прямо передо мной – гроб. А в гробу он, Петрович-то. Ну, я так и онемела. Смотрю, а слова сказать не могу, страсть как напугалась.
А Нюрка мне:
– Вот такие мои дела... И что я только не давала врачам, чего только не несла в больницу... А он в последнее время мне все говорил, что, мол, Нюра, ничего не жалей: здоровье будет – все будет... Тыщи на больницу ушли. Выписали, а дома-то помер. Да уж, видно, такой человек: лицо как яйцо, а внутри болтун...
Да, так и сказала мне.
А я так говорю:
– А зачем вы даете? Кто у вас просит? Кто заставляет? Вот так. Не давай! А кто даст – тот помрет. Я вас спрашиваю: «Зачем вы даете?»
А дед мой молчал, молчал, а потом говорит:
– Дает тот, кто сам берет. Они, эти деньги, с душком, долго не задерживаются, так и ходят с рук на руки, пока за руку не схватят или сам не помрет... Если этот душок к рукам прилипнет – не отмоешь: едкий больно.
Вдруг громко заплакал ребенок.
– А! Вот! – Вскочила женщина и замахала руками. – Там пчела! Пчела!
В коляске жужжала пчела. «Д-жю! Д-жю!» Баба Дуся неторопливо повела рукой, и пчела вылетела. Потом она затянула концы синего платка, встала, маленькая, ссутулившаяся. Поправила одеяльце в коляске и, поклонившись всем, повезла внучка к подъезду:
– Все, все. Еду, молчи, проснулся... Услышал... Все понимает. В деда Михаила пошел.
А глаза бабы Дуси так живым небесным светом и поблескивают, а голос, ласковый, шуршащий, как дубовые листья осенью.